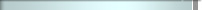стр. 1 стр. 2>> стр. 3>> стр. 4>> стр. 5>> >>стр. 6
Александр Шаргородский
Стихи
из книги, изданной во Львове в 2004 г.
Издательство Владимира Губернского Ahill
Составитель и главный редактор О. Рубанский
Вместо предисловия
* * *
Судьба моя, судьи, родня,
текучка, горячка дневная!
Вы входите снова в меня,
шумя, беспокоясь, кляня,
собою меня наполняя.
С узлами забот и обид:
сотрудники, гости, соседи…
Во мне веселится, скорбит
ваш труд, ваша ярость, ваш быт –
извечные хлопоты эти…
В сумятице вашей увяз,
я с вами – везде и повсюду…
Ну как же я буду без вас?
Наверное, просто – не буду…
Поминки
То болезнь была неизлечима,
то родня груба и из-за этого…
Каждый раз отдельная причина,
чтоб поэту выпало поэтово.
Нет, не рок. Не миссия, не мистика.
Просто крик тоски и одиночества.
Ведь словам со скомканного листика
прозвучать так хочется, так хочется!
А глядишь – и жизнь попроще выстроится:
жить да поживать – не беспокоиться…
Невозможно – по причине искренности!
Невозможно – по причине совести!
1990-е
* * *
Я не придумывал сюжет:
прошло немало лет.
Но ежели чего-то нет,
его и вправду нет.
Хотелось, чтоб благая весть,
чтоб горе – не беда…
Но я писал о том, что есть,
что пережил тогда.
Сюжет отмучил и затих.
Всё отошло вполне…
А вас, читателей моих,
прошу поверить в честный стих,
прошу поверить мне!
* * *
Итак, с начала, Моцарты мои!
Начнём игру мелодии и слова!
И пусть разбудят птицы и ручьи
придуманного нами Птицелова.
А что исход, который недалёк,
который сами нехотя пророчим…
Лишь по спине – внезапный холодок.
Да зябкий жест – как будто между прочим.
Что за душой – то затаить изволь.
Перетерпи, перемолчи – хоть тресни,
чтоб страх ночной и скомканная боль
не просочились в утренние песни.
Чтоб стайки нот, беспечны и светлы,
из наших окон выпорхнувши снова,
расселись по деревьям, как щеглы
придуманного нами Птицелова.
Март 1992
Первый снег
Знать, этот город так поблек
в грязи осенней,
что только чистый первый снег –
его спасенье.
Но мы не ведали, чего
мы так хотели,
а оказалось – что его
ночной метели!
И снег пошёл, пошёл, пошёл…
Как цвет черешен,
он был не лёгок, не тяжёл,
а просто нежен.
Он тихо лёг поверх обид,
как бинт на ране,
что заглушит, что победит
воспоминанье.
Он чётко вычертил карниз,
набух, как пена,
освобождая душу из
былого плена.
Освобождая душу из
былой печали,
он уходил покорно вниз,
а мы молчали.
Он для тебя и для меня
мелькал искристо…
Пусть ляжет первая лыжня
легко и чисто!
Под эту музыку, что в нём
почти звучала,
давай рискнём:
давай начнём,
начнём сначала!
Знать,
этот город так поблек…
1980-е
Из гражданской лирики
Глушь
Третий день со двора – ни шага.
На душе, как в полях – серо.
Слава Богу, что есть бумага!
Слава Богу, что есть перо!
Подытожить свои печали
под шуршанье дождя изволь.
Слава Богу – не полегчали,
слава Богу – не замолчали
эта горечь и эта боль!
Хоть, признаться, порою трушу
(как закончится всё? – Бог весть…),
Слава Богу – не продал душу,
слава Богу – не пропил честь!
Только моют дожди густые
дальний путь, что порой тернист.
– Слава Богу! – твердит в России
вольнодумец и атеист.
Июль 1987
Беглец
Прости, неласковая Русь,
мой край, от кривды поседелый!
Что ж я никак не соберусь
умчаться в чуждые пределы?
Кордон. Граница. Путь открыт.
Прощанья час судьбою пробит.
И конь осёдланный стоит,
и проводник меня торопит.
Но на последнем берегу,
уже предвидя берег новый,
вдруг отрешиться не смогу…
И ворочусь – принять оковы.
Начало 1970-х
Шереметьево – 2
Эти хлопоты, эта морока,
чтобы проводы были легки,
чтоб годам прожитым вопреки –
вам ни страха потом, ни упрёка.
И замызганный аэропорт,
коим к вам обернулась столица,
чтоб наплыв опостылевших морд
растворил дорогие вам лица…
Но томитесь сиротской тоской,
так изломаны здесь и избиты,
что и злости нормальной людской
не осталось – воздать за обиды.
Или дети несчастной страны
на обломках Четвёртого Рима,
вы по-прежнему ею больны?
И болезнь эта неизлечима.
Вернусь в Тбилиси!
Солнце искрится в синей выси
и гортанно журчит вода…
Я однажды вернусь в Тбилиси,
хоть и не был там никогда!
Старый камень шуршит шершаво,
отдавая руке тепло…
Я вернусь, утверждая право
пережить и отвергнуть зло!
Документы мои листая,
что гадать о моих корнях!
Здесь родня у меня такая:
Грибоедов и Пастернак!
Здесь отыскивал Окуджава
хоть бы тени своих родных…
Разве мало родства и права,
унаследованного от них?
Солнце искрится в синей выси
и гортанно журчит вода…
Я однажды вернусь в Тбилиси
хоть и не был там никогда!
Там прохладою – вечер ранний,
там обычаи столь мудры,
там скликает нас Пиросмани
на несбыточные пиры…
В край, оплаканный и воспетый,
в старый город, что был и есть…
Здесь в решительный миг поэты
выбирали не жизнь, а честь!
Я вернусь в этот край, который
знал тревогу ещё вчера.
Здесь сквозь выстрелы шли актёры
репетировать к Стуруа.
Солнце искрится в синей выси
и гортанно журчит вода…
Я однажды вернусь в Тбилиси
хоть и не был там никогда!
Тёмный век разделяет снова.
Но в отчаянном споре с ним
силой жеста, мазка и слова
мы единство своё храним!
Ну какая же заграница –
эта радость и боль, и страсть?!
В день исхода – припомнить лица
и на землю ничком упасть…
В час последних моих желаний
оглянусь, потянусь назад
к той идиллии Пиросмани,
на тоскующий голос Нани,
заклинающей снегопад!
Конец 90-х – ноябрь 2003
Баллада о хачкарах*
Армяно-азербайджанской войне
предшествовали и варварские разрушения
памятников армянской архитектуры в НКАО
Был храм аскетичен, как древний молитвенный стих.
И камни молчали, полуденным солнцем залиты.
Но грохот дробилки рассыпался, дрожью затих,
и стали щебёнкой ажурные древние плиты…
Тут каждая стела творила безмолвный упрёк
и падала тяжко рукой, ослабевшей от пыток,
чтоб щебнем ложиться на полосы древних дорог,
чтоб путник топтал в бесконечность развёрнутый свиток.
Но пыль опадала, на камень устало осев,
и видели горы, как время, бесстрастны и стары,
что был животворен и этот жестокий посев:
из мёртвого щебня опять прорастали хачкары!
* Хачкары (армянск.) – крест животворящий, ритуальное стилизованное
изображение креста на стенах древних армянских храмов или на стелах
Декабрь 1988
* * *
Владимиру Белозерскому,
автору стихотворения
"Страсти по Гайдару"
Пластинка ханжества крутится
вокруг да ещё и около...
Читаю я благоглупости
под Вашими честными строками.
Порознь, а то и вместе
хлопочут себе, беспокоясь.
Пошлое благочестье –
удар со спины в совесть!
Пропишут грошовые истины
то глупо, а то – хитро ещё...
Держитесь, Володя, мы выстоим
вместе с Аркадий Петровичем!
Не то что б его порочат, но
чего-то так бьёт по нервам,
как та пулемётная очередь
под Каневом в сорок первом.
То снегом, то туманом, то дождём…
В 1991 году был сожжён крест на могиле
украинского поэта-диссидента Василя Стуса.
Были разбиты статуи скульптора Ивана Гончара,
над которыми он работал долгие годы.
Дважды заливали краской мемориальную доску
на доме Михаила Булгакова.
Плодились "национально ориентированные"
радикальные организации.
То снегом, то туманом, то дождём
над родиной, над нашим бедным раем
мы к вам, живым, настойчиво идём,
свечами озаряем бедный дом,
но сами в адском пламени сгораем.
Гремучей смесью - ненависть и страх,
и в этой рукотворной преисподней
наш бедный прах сгорает на кострах,
кромешно разожжённых чёрной сотней.
Крест надмогильный… Пламя, дым и чад.
Что? Ест глаза? Отмахиваться бросьте!
Не просто доски в пламени трещат –
людские перемолотые кости.
Очищена чугунная доска
от жидкости прилипчивой и вязкой.
Кровь, что ещё не пролита, пока
лукаво притворилась красной краской.
Не человека – статую – в куски?
Но пошлым завереньям вопреки
вновь злоба охмеляет, словно брага.
И снова каждый остров – Соловки.
И тени Яра Бабьего, горьки,
встают по краю каждого оврага.
Опять убогих истин благодать
не оставляет родину в покое.
Неужто, сжечь – достойней, чем отдать
усталым людям должное, людское?
Хлеб не взрастить под огненным дождём.
Пожар сожжёт, не обогреет дом,
холодное жилище человечье…
И потому мы снова к вам несём
зажжённые страданьем и трудом
добра и правды трепетные свечи.
То снегом, то туманом, то дождём…
1990–1991
У натовпі
Чи то історія нова,
чи то стара та вже забута...
Облудні в'яжуться слова
чи то у зашморг, чи у пута.
Душа вчорашнього раба
знов вимага для себе грати.
Волають: "Геть!",
кричать: "Ганьба!",
уже не в змозі не волати...
Чи од минущини сльоза,
чи од прийдешньої скорботи...
Тут всі воліють бути "за".
Тут дуже страшно бути проти!
1991
* * *
Помедлив, словно виноватая
(не удержать, как ни радей!),
стена хоронит, тяжко падая,
беспечно верящих детей.
Что, не соврёшь – не проживёшь?
А правда – пыль? А совесть – дым?
Их убивает наша ложь,
а мы в раскаянье глядим…
Что прогуляли мы? Что пропили?
Что, растеряв, не сберегли?
Как воздаянье за Чернобыли –
слепой, глубинный гнев земли.
Оборвалась живая нить…
И есть ли кара нам страшней:
в земле любимых хоронить,
а после вновь ступать по ней?
Земля враждою обесчещена,
а мы привыкли, мы – смогли…
Вот меж людьми змеится трещина
и проникает вглубь земли.
Земле невмочь постылый гнёт,
бездумно длящийся века.
Однажды нас она стряхнёт,
как конь хмельного седока.
Декабрь 1988
Чернобыль
«Будь же проклята ты, что случилась,
и спасибо за то, что была…»
Е. Евтушенко /о войне/
Беда
Содрогнулись Земли полушария...
А для здешних, для нас – навсегда
не газетное слово – авария,
а народное слово – беда...
Навсегда, упрекая и мучая...
И ничем не изгладить уже
эту память: ограда колючая
по полям, соснякам – по душе.
Память – Припяти мёртвой молчание,
в берегах разорённых река.
Память – сёла, где в сумерки ранние –
ни огня, ни над крышей дымка.
И солдат, что над бронзою стылою
так сурово и скорбно склонён,
словно в списке над братской могилою
поприбавилось новых имён...
1986
Прощание. Май 1986 года. Киев
Щуря глаз на огни,
смотрит словно чужая...
Сигарету помни.
Закури, провожая.
То, что жженьем в крови,
мукой сладкой и жуткой,
отреши, оторви –
и отделайся шуткой.
Небо брызнет дождём,
чтоб тоска миновала.
Докурив, побредём
по перрону с вокзала.
Но в прощания час,
без обрядов и правил,
кто уехал – на нас
этот город оставил.
Тротуары чисты
от вокзала до дому...
Мы с ним нынче – на "ты"
по родству вековому.
Он нам верит во всём
в этом мареве синем...
Оградим и спасём.
Не сдадим.
Не покинем.
Вахта
Память взвесит и вновь отберёт:
солнца свет безнадёжно-осенний.
В белых шапочках строгий народ
головами – на спинки сидений.
Ни к чему умиленья слеза,
но в дороге, то гладкой, то тряской,
утомлённые щурят глаза,
как хирурги, над марлевой маской.
Вспомни вновь. Покури. Помолчи.
Без призывов, речей и девизов
едет вахта. Так едут врачи.
Неотложная помощь на вызов.
Проба
1
Здесь воды так чисты,
как более нигде.
Деревья и кусты
сошлись к живой воде.
И сёла вдалеке
придвинулись к реке…
Залив.
Мотора гул.
Я воду зачерпнул.
Негромко, как всегда,
отозвалась вода.
Дорога.
Зелень лип.
Когда сильней трясло,
я слышал тихий всхлип
сквозь тонкое стекло.
А после…
Холодком поблёскивал металл.
В подвале городском
прибор считал, считал…
И показалось вдруг –
разрушен вечный круг.
И трещина, змеясь,
гладь водяную рвёт.
И нарушает связь
ветров, деревьев, вод.
Трещит, как полотно,
живая синь небес.
И больше – не дано…
Лишь клочьями – на дно
тот обгоревший лес.
И солнце сорвалось,
прострелено насквозь…
Щелчок. Замéр. Журнал.
(Как холодно внутри!)
Ты, видимо, устал?
Ну ладно! Покури!
2
Что может быть святей
земных, глубинных сил?
Мальчишкой из горстей
я эту воду пил.
По-летнему тепла,
как ласковая речь,
прозрачнее стекла
она легко текла
с девичьих смуглых плеч.
И сосны над водой
в тот самый светлый час
звездою молодой
благословляли нас!
Так значит, всё – во тьму:
вода, леса, звезда?..
И больше – никому!
И после – никогда!
Лишь память – шорох крыл,
туман ночных озёр…
– Ну хватит! Покурил?
Давай включай прибор!
3
Рассветный час жесток
(ночной аврал не в счёт!).
Уже людской поток
по улицам течёт.
Но сам я быть устал
волной людской реки.
Усталость – как металл –
и в веки, и в виски.
Шагаю тяжело.
От курева охрип.
Но вспомню: сквозь стекло –
негромкий, тонкий всхлип.
И трещина – змеясь…
И небо – на куски…
И острой болью – связь
с живой судьбой реки,
с тем миром, что велик
и мудр, как древний том.
С тем, из чего возник,
куда уйду потом.
С тем, что сейчас большой,
встревоженный такой,
болит во мне – душой,
живёт во мне – тоской…
И я (усталость – с плеч!),
приемля свой удел, –
в поток забот и встреч,
в поток нелёгких дел.
В работу – с головой,
в теченье трудных дней,
чтоб стала вновь живой
вода земли моей!
* * *
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье...
Д. Самойлов
Вы – не тяжесть бетона, не жёсткость железа,
вы – деревья уже поредевшего леса.
Вы наивны порой, вы годами не стары,
но пройдя сквозь огонь той трагической были,
вы – превыше любых осуждений и кары,
вы на тысячу лет все грехи искупили.
Ну а мы, остальные, навек виноваты,
что с рожденья привыкнув к такому порядку,
принимали, не глядя, рубли, киловатты,
как собачью подачку, чиновничью взятку.
Что мелеют опасно и души, и реки,
что детей наших губит обмана завеса.
Что, как сосны у Припяти, встали навеки
вы, деревья уже поредевшего леса.
* * *
«В конце концов все мы живём возле Чернобыля».
Д-р Роберт Гейл
В рыжем сосняке у перекрёстка...
Среди погибших отрешённых сосен
весна гуляет солнечным лучом...
В. Шовкошитный
В рыжем сосняке у перекрёстка
хвоя опалённая мертва.
Но зелёным светится берёзка,
зеленеет по лесу трава.
Эти беспощадные контрасты
сохранить бы надо на года,
чтобы тех, кто забывать горазды,
приводить за памятью сюда.
Чтоб среди осуществлённых бредней
апокалиптического зла
робкою надеждою последней
та берёзка всё-таки жила...
Весна 1987
* * *
С. Самотёсову
Проникает насквозь, до последней кровинки корёжа,
хоть на запахе хвои настоян густеющий зной.
На шоссе у села постоим и покурим, Серёжа,
к разогретой кабине слегка привалившись спиной.
Разомлели леса, благодушны, медлительно сонны…
Только стрелку прибора упрямо зашкалит Беда.
А у нас за спиной – неизбывные мёртвые зоны
и уже никогда нам с тобой не вернуться туда.
Отболело. Прошло. Эта память – почти как чужая.
Лишь порою в ночи просочится сквозь вязкую тьму…
Но приходят друзья, и вино нас хмелит, утешая.
Только мы – не юнцы, мы уже не поверим ему.
Так живешь на земле, от судьбы безнадёжно зависим.
В бестолковом миру, да и сам тому миру под стать…
Те, которых мы любим, не пишут нам ласковых писем.
Нелюбимые пишут. Да нам неохота читать.
Здесь, в безлюдном селе, чью-то долю оплакали ивы.
Этим плачем нам души стянуло в болезненный жгут.
Но покуда болит – это значит: мы всё-таки живы!
Но покуда спешим – это значит: нас всё-таки ждут!
Сентябрь–октябрь 1989
Яблоки Чернобыля
А. С.
Нет, не чернобыльские снобы
(мол, что нам стронций – нипочём!),
но этих яблок вкус особый,
но шорох листьев над плечом…
И будем вспоминать с тобой мы
их вкус с кислинкою такой…
И плёск озёр Краснянской поймы,
и грозный призрак за рекой.
И это, тягостное слуху,
молчанье, плотное, как мгла.
И одинокую старуху
среди безлюдного села.
Был этот год навеки горек,
и следом – столько трудных лет…
И были яблоки, которых –
ты уверяешь – лучше нет!
Пришли.
До завтра!
До свиданья!
Но уходить в ночную тьму
я не спешу.
– Послушай, Саня,
давай ещё по одному!
Август 1989