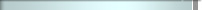<<стр. 1 стр. 2 стр. 3>> стр. 4>> стр. 5>> >>стр. 6
Александр Шаргородский
Славе Смоленскому
«Кажу ж, вiн був не з наших сiл,
а десь з Смоленщини, де стiл
і хата, й люди всiм привiтнi...»
Андрiй Малишко, "Прометей"
Когда брехня фашистского журнала
душе усталой встанет поперёк,
припомню всё... Но только для начала –
смоленский твой особый говорок.
И то, как средь чернобыльского быта,
волной – стихи, на время смыв дела!
Как девушка – смущенье и обида –
тобою за стихами позабыта,
сама не утерпела и пришла...
Вот ты опять мне даришь плавность строчек.
Та с юмором, а та – не весела...
Про песню, что – водицею в песочек –
уходит из смоленского села.
Про здешнее, про то, что нынче – Зона.
Про острое, сводящее с ума:
как не со скрипом, нет, с подобьем стона,
ложились наземь мёртвые дома...
Ты замолкал.
Вдруг становилась жуткой
и тьма, и тишина безлюдных мест.
Ты разряжал молчанье доброй шуткой.
Ну а потом – тот артистичный жест!
И горечь спирта глушит горечь слова.
Я ухожу чуток навеселе...
…………………………………………..
Ну где теперь тебя разыщешь снова?
Быть может, на Смоленщине, в селе?
Эх, хорошо бы, Слава, если б снова
звонок – и ты негаданно вошёл…
Чтоб нас опять объединяло слово
и разделял простой кухонный стол.
Ты, как когда-то, на скатёрке гладкой
клади тетрадь, примятую чуть-чуть.
А я – бутылку рядышком с тетрадкой,
чтоб горечью былое помянуть.
А я – на стол нехитрые закуски
и чарки, что до времени пусты...
К чертям анкеты – русский ли, не русский...
Люблю Россию за таких, как ты!
* * *
С. М.
Простите мне мальчишество моё.
В мои года подобное – подсудно.
Когда в садах заросших – вороньё,
и в порт приписки не вернулось судно.
Когда закон старинный – зуб за зуб –
царит в народах страшно и кроваво…
Считайте, приговор мой просто глуп.
Кто дал мне исключительное право
судить Ваш стих бездумно, сгоряча?
Зачем спешил? Представил бы сначала:
Вы (волосы по ветру) – как свеча
у края безнадежного причала.
Да что я сам? И если кораблю
вершить мой путь, невольный или вольный,
та женщина, которую люблю,
не станет заклинать ветра и волны.
Распутывать клубок моих дорог,
гореть свечой у моего причала…
Причём Ваш стих?
Ведь это я – не смог…
Досада породила мой упрёк.
Не верите – прочтите всё с начала!
Август 1989
* * *
Сквозь любые дела
мне однажды припомнится вдруг:
У околиц села
мелкой травкою выстелен луг.
За опрятной церквушкой,
возвышено ясен и прост,
поднимался крестами,
вставал деревенский погост.
Я прошёл по селу.
Переулки молчали – пусты.
У порогов домов
шелестели полыни кусты.
Но на старом погосте,
безлюдью тому вопреки,
обвивали кресты
рушники,
рушники,
рушники...
Есть иные погосты.
И там не кончается счёт.
Белой кровью туман
на холодные плиты течёт.
И на голые ветви
всё нижутся капли дождя,
человеческой скорби
нелёгкий итог подводя...
Но трудом и упорством,
и болью несглаженных строк
затвердим этот горький
на долгие годы урок.
Чтобы помнилось остро
всё то, что случилось вчера.
Чтоб не скрыли погостов
заборы из криков "ура!"
Чтоб без пошлых парадов
на горе остывшем людском…
Эти строки вяжу
рушником,
рушником,
рушником...
Земляк
Были первые дни горячи,
боль входила в сердца, как иголка.
Он пришёл, как приходят врачи,
по негромкому вызову долга.
Что мы знали? – лишь белый халат...
Но тогда, от апреля до мая,
шёл он в смертную муку палат,
боль и стон обречённых ребят
без любых словарей понимая.
Поутихло... И вот, вопреки
той недавней горячечной были,
словно вонь из углов – голоски
поползли, зашипели, заныли.
Мол, откуда? – Оттуда... – И чей?
Ихний? – Значит, опасен особо.
(Как похоже на дело врачей!
Вновь разит черносотенной злобой...)
Отсиделись по тихим углам!
Отбрехались, прислуживать рады!
А теперь черносотенный хам
норовит, беспардонно-упрям,
пачкать чистые эти халаты.
Я ходил за недальний предел,
где погублены рощи и реки,
как в пустые глазницы, глядел
в окна Припяти, мёртвой навеки.
И ветрами в пустынных полях,
этих сёл обезлюдевших болью
я клянусь: для меня он – земляк,
я обидеть его не позволю!
Воспоминание о Херсонесе
Не мудрый, бесстрастный историк
над горстью обломков в пыли,
не зритель подмостков, с которых
актёры куда-то ушли…
Сегодняшних дней горожанин,
пришедший на берег морской,
я был, как предчувствием, ранен
безмолвною этой тоской.
Земля здесь, должно быть, устала
терпеть этот зной, этот гнёт.
Лишь ящерка струйкой металла
в траве жестковатой мелькнёт…
Следы разрушительных воен.
Пророческий, горький упрёк…
Тогда ещё не был построен
тот город, что я не сберёг.
Октябрь 1987
* * *
Этот болью изломанный год
(сколько острых осколков угластых!)
дал мне то, что превыше всех льгот –
тонкий пропуск, запаянный в пластик.
Не бетон, не стальная броня –
просто пропуск, невзрачный и строгий,
неразъёмный, как сплав из меня
и большой всенародной тревоги.
Только пропуск…
И значит – иду,
обретая нелёгкое право
упираться плечами в беду
и о ней говорить нелукаво.
Весенний снимок
Из иронических стихов
* * *
Качается, но не тонет!
(девиз на древнем гербе Парижа)
Это юмор. Вы хоть верьте, хоть не верьте.
Жёсткий юмор, перемноженный на грусть…
Я не юный, и тем более, не Вертер…
В этой смуте разберусь. Не застрелюсь.
И качается кораблик, да не тонет,
хоть, как лермонтовский парус, одинок.
Озаряет изнутри мои ладони
этот чуткий, этот тёплый огонёк.
Прикурить бы – только я сто лет как бросил.
Погасить бы – только жалко, не рискну…
Ненадолго показалось: эта осень
удивительно похожа на весну…
Всё в порядке. Не свихнулся и не умер.
Если что-то не случилось – ну и пусть!
Повторяю: это юмор. Просто – юмор.
Жёсткий юмор, перемноженный на грусть.
Озорной диптих
1
За словцом – не постою
и в карманы не полезу.
Не брани меня, повесу.
Слушай песенку мою!
Говоришь, не тот накал...
Но характер – тот же, странный.
Не уплыл в чужие страны.
Хоть не пан, да не пропал!
Что-то нынче я продрог
под личиной озорною:
грустно шутит надо мною
то ли возраст, то ли Бог…
Если пахнет декабрём,
ни к чему уже парады…
Чем богаты – тем и рады.
Живы будем – не помрём!
Только тянет, хоть убей,
погулять над самой кромкой…
Дразнит песенкой негромкой
развесёлый воробей…
И пускай не по уму,
снова сердце беспокою.
Не тоскою, а строкою
всё равно тебя пройму!
1985–1986
2
Не зайдёшь, не позвонишь,
не прервёшь на полуслове.
По ночам такая тишь
для меня, пожалуй, внове.
И мотаться ни к чему
от кафешки до вокзала:
ты всю эту кутерьму
узелочком завязала.
Телефон, как неживой, –
ни привета, ни ответа…
Никну лысой головой:
значит, песенка допета.
Но не хочется никак
сочинять себе другую.
Дело, видимо, – табак…
Покурю и обмозгую.
Не зайдёшь,
не позвонишь…
Конец 1980-х
* * *
Грудой, кипой, бумажной свалкой…
Сколько строк. Сколько слов и тем.
Всё бери – ничего не жалко!
А она говорит: «Зачем?»
И покуда река бессонно
протекает из тьмы во тьму,
хочешь – прыгну с моста Патона?
А она мне в ответ: «К чему?»
Ладно, жалкий, смешной и глупый,
но капризное божество!..
А она лишь отводит губы,
и с усмешкою: «Для чего?»
Покидаю твой дом постылый.
Пусть меж нами встают года!
Как бы ты меня ни просила,
не удержишь – не хватит силы…
А она мне во след: «Куда?»
А она говорит: «Зачем?»
А она мне в ответ «К чему?»
И с усмешкою: «Для чего?»
А потом снова спрашивает: «Ну… куда?»
Апрель 1988
Сентиментальная баллада
«Улыбнись, моя краса,
на мою балладу...»
В. А. Жуковский, "Светлана"
Чувствительность (увы!) не в моде.
Её считают чем-то вроде
смешного, мелкого грешка.
Хоть я пред модою и трушу,
но чем ещё согреешь душу?
И вот – грешу исподтишка.
Насмешкой душу не согреешь.
А как умел Василь Андреич
согреть негромкою строкой!
И к нам доносят строки эти,
как волны, из былых столетий
и свет, и мудрость, и покой.
И я вослед...
Порой ночною
снега мерцают под луною,
а тени – резче и черней.
Ты – на крыльцо фигуркой хрупкой,
укрывшись беличьею шубкой.
И я – навстречу из саней.
О, как уютно в доме старом!
Пылает печь трескучим жаром,
дробит полуночную тишь.
Я – в нетерпеньи и смятеньи.
Свеча колышет наши тени,
и ты глазами ворожишь.
Беда! С натурой нету сладу.
Задумал чинную балладу.
А там – фантазия, не ложь!
Вот так. Затеял о покое,
но вдруг придумалось такое,
что до рассвета не уснёшь!
Лягу!
«Да я под этого министра… лягу, лишь бы…»
(Из откровений пробивной молодой женщины)
По жизни без связей – ни шагу!
В служебной карьере – вдвойне.
И я под кого-нибудь лягу,
чтоб он поспособствовал мне.
Чтоб «вырасти» круто и быстро,
ни лет не теряя, ни сил,
готова я лечь под министра…
(Да только бы он попросил!)
И вот он, гляди – кабинетик!
И нужные люди вокруг.
И юный красавчик, для этих,
для самых интимных услуг.
…………………………….
Как будто ещё не старуха,
и плотское мне – по плечу.
Но всё же – томление духа:
иного, иного хочу…
В душе ощущаю истому,
о женском грущу, о своём…
И к классику, графу Толстому,
однажды иду на приём.
Мол, всё мне постыло отныне
в миру лицемерных румян…
Возьмите меня героиней
в большой настоящий роман!
Душа моя ноет, как рана,
уже не о низменном речь…
Ах, мне б на страницу романа
прекрасною дамою лечь!
Но граф рассудил негуманно,
подумав, ответил всерьёз:
«Хотите Карениной Анной –
пожалуйте под паровоз!»
* * *
Судить нас не спеши.
Небрежно, между прочим,
мы за спиною точим
словесные ножи.
Не то чтоб груда лжи,
а так, сказали где-то…
И потому за это
судить нас не спеши.
Конечно, до поры
все отношенья эти…
Но если мы – соседи,
мы будем так добры.
Коробочкой икры –
расплатимся услугой.
Покуда нам не туго,
мы будем к вам добры.
Нам даром не дают,
и мы другим не дарим.
Лишь троньте наш уют –
мы так в ответ ударим!
Ударим – от души,
приложим всё старание.
И всё-таки заранее
судить нас не спеши.
Доброжелатель
Твердишь мне: «Живи приученный
не рваться в напрасный бой.
Плыви, повторяй излучины,
начертанные судьбой.
Придётся – сверни в сторону,
прикажут – кричи «ура!»…
Довлеет тебе, яко ворону,
ведать своё «кра!»
А с долей своей серою
не спорь до конца пути.
Утешься не знаньем – верою:
легче концы свести.
Ведь счастье – не всем поровну
от веку и до сих пор…
Довлеет тебе, яко ворону,
знать своё «nevermore!»
Сырою дохнёт ямою –
сдайся и умирай.»
Но только рукой упрямою
хватаюсь за самый край!
Рванусь непокорно в сторону,
яростью озарён!
«Довлеет тебе, яко ворону…»
– К чёрту твоих ворон!