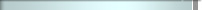ГРИБНОЙ ПИРОГ <стр 1> <стр 2>
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дебюсси. «Лунный свет»
Когда я один и ночь за окном,
и нет мне – ни дел, ни сна,
и спит, не согрета моим теплом,
в комнате дальней жена,
когда на бумагу с карандаша
жалкий сочится бред,
по капле теряет надежду душа,
а лунный сияет свет!..
Когда, обыденность переборов,
чувств нахлынет прилив,
от несовершенства сочащихся слов
руки... – стою, заломив.
Когда начинает глумиться бес:
мол, не пытайся вновь! –
прольётся в лучах с осиянных небес
флейты густая кровь...
И сквозь Пространство, подобно лучу,
голос живой потечёт.
Снова Маэстро зажжёт свечу,
вслушиваться начнёт.
Его вдохновенье наполнит мир
и снизойдёт ко мне.
Ангелы Божьи, прервав свой пир,
взор обратят к луне.
Музыка! Музыка! Чаша сия
дадена божествам.
Мне же лишь чудится – это я –
к флейте – приник устам...
И я не помню в сердце своём,
что есть где-то рай и ад.
Душа сливается с Естеством,
и звуки в неё летят!
Музыка! Музыка! Мой поводырь,
Вечности зов родной!
Я – часть Всего
и Пространства ширь
пульсирует
в такт
со мной!
Нет ей ни времени, ни границ,
чувству предела нет!..
И музыка в душу мне с лунных ресниц
сквозь ночь проливает свет...
1993
* * *
Я много сделал в жизни зла,
пока доселе жил,
на бесполезные дела
потратил столько сил!
И сути не постиг умом:
в чём БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ.
С друзьями, сидя за столом,
не мог поговорить.
И женщине, той, что была
всегда добра со мной,
я мало отдавал тепла –
душа больна виной...
Я много сделал в жизни зла.
Меня съедала лень.
Благим намереньям хвала,
пока не кончен день.
Но стыдно, стыдно и темно
в полуночной тиши,
что вновь не брошено зерно
на пахоту души.
Теперь мне видится итог
всё ближе и ясней.
Я каюсь. И молюсь, чтоб Бог
продлил остаток дней.
И страшно сознавать меж тем,
что жизнь, как решето...
Ах, я с ума сошёл совсем!
Опять пишу не то!
А мне бы выйти из угла
и крикнуть от души:
«Я никому не сделал зла!
Об этом напиши!»
Что ж, строки можно изменить
и будет смысл иной.
Но я боюсь – порвётся нить
меж правдою и мной.
1994
Уходит Киев
«Я никогда не боялся открыто высказывать свои убеждения
при всяком удобном случае. Так повинует мне мой долг.
Однако голос отдельного человека исчезает в шумной толпе –
так было и будет всегда».
Альберт Эйнштейн
Судьба былого нелегка
во дни чужие.
Из ныне в прошлые века
уходит Киев.
Уходит тихо, словно гость
чужого пира,
где роль невольную пришлось
играть - кумира.
Ложатся серые пласты
другой натуры
на самобытные черты
его культуры.
Печальны старые дома
без содержанья.
И наносная кутерьма
не зрит прощанья.
Везде торгашество и срам.
И дни – химеры.
Уходит Киев – светлый храм
Любви и Веры.
А с ним уходит свет из глаз,
что жил намедни.
С Майдана слышен злобы глас,
с Печерска – бредни.
А многим кажется, что всё
ещё впервые...
Куда «свободную» несёт
толпу стихия?
Разутая, в какой поход
стопы направит
страна, покинув огород,
и кто возглавит? –
невежда? вор? иль патриот
слепой гордыни? –
какие истины сотрёт,
сметёт святыни?
...Но, я отвлёкся, господа,
пока вы немы.
Так жизнь отходит иногда
от главной темы.
Ужель вернёт её на круг
лишь хлыст Батыев?
Но страшен враг. А где же друг?
И чей же Киев?
Да, я сгущаю краски, да
я всё сгущаю
и, в чувствах, меры иногда
не ощущаю.
Так пусть слова мои умрут,
не станут вещи!
Но то и дело, видя тут
дурные вещи –
душонку ль бывшего раба
у стен Софии,
иль слыша: «Жид! Москаль! Ганьба!» –
уходит Киев...
Он видел всё, он всё познал
на этом свете,
и пеплом был, и восставал –
велик и светел,
и был открыт для всех племён –
кто входит с миром,
но не коленопреклонён
пред кирасиром.
Он в мире не премножил срам,
как Ниневия,
поскольку выстрадал и сам
грехи чужие.
Он помнит, были вороша,
как в мире оном
страдала Божия душа
в Яру со стоном...
Но, на виду у суеты
перед Майданом
опять развешаны листы
фашистским кланом.
...Безумен век! И он сгустил
любовь и муки.
Куда, Архангел Михаил,
простёр ты руки?
Владимир – нем, всё держит крест.
Молчат святые.
Им будто чудится: с небес
идёт Мессия...
Но ничего того, что ждут,
не происходит.
А дни, безумствуя, бегут,
и он уходит...
Лишь Днепр по-прежнему течёт,
не уставая,
и думает, что в нём ещё
вода живая,
и плещет волнами в бетон
почти беспечно:
«Я был – я есть для всех времён,
и буду вечно!
А вы – уйдёте навсегда,
потом – другие...»
А что же будет здесь тогда –
во дни чужие? –
когда успеют нас забыть
чужие дети,
и сами будут уходить,
и таять в Лете,
и поглотит их бездна тьмы,
и скроет заметь...
Не так ли некогда и мы
теряли память?
Так что же будет здесь, когда
уж нас не станет?
Увы, не знаем, господа.
И это ранит.
Ах, пусть я буду нехорош, –
что стих – страшилка!
И да не сгинет ни за грош
душа-сопилка!
Пусть мова ридная живёт,
проходит Спуском,
где та же Родина поёт
на вечном русском!
Пусть наши мысли – не во зло,
мы ж не чужие!
И на своей земле светло
пребудет Киев!
Надеюсь, верую, молюсь
его Природе!
Молюсь, надеюсь... И боюсь,
что он уходит.
Февраль 1994
Воспоминания о детстве
1. Первые странствия
Сквозь обрывки сновидений,
грустной жизни кутерьму
вижу старенькие сени
в детства солнечном дому.
Может, это так казалось
мне в младенчестве тогда –
солнце в сени проливалось
через щели, как вода,
и расплёскивалось всюду,
и журчало, как ручей...
Я стоял, внимая чуду
в пыльном хаосе лучей.
И протягивал я руки
к скриплой двери: мол, пора!
Ослепительные звуки
доносились со двора.
Мама дверь приотворяла
в полдень, пахнущий весной.
Ах, как сердце замирало
перед мира глубиной!
Там я странствовал по саду
среди яблонь и малин.
Что ещё для счастья надо,
если хочешь быть один?
Вот и первый опыт к сроку:
нет свободы без конца.
Зрит всевидящее око
в спину странника с крыльца.
1994
2. * * *
Я, босоногий и чумазый,
несу в руках пучок травы.
День был прекрасен. Но, увы,
влетит мне дома за проказы.
Но рады кролики-друзья:
не зря сбегал из дома я!
1980-е
3. Нещасне кохання
Ти – як сонечко ясненьке,
в тебе платтячко біленьке.
Ти до мене повернулась
і чарівно посміхнулась.
Ти спитала: «Хто ти, хлопчик?»
Я сказав: «Звичайно, льотчик,
бо в мене одні турботи –
літаки і вертольоти!
Я без діла не сумую,
їх у зошиті малюю.
Хочеш льотчицею стати? –
будем разом малювати!»
Опустивши долу очі,
ти погодилась охоче.
І тоді я здогадався,
що в тебе я закохався.
Я радію, ти радієш!
Це любов! – ти розумієш.
І літають літаками
сторінки за сторінками!
Раптом вчителька з’явилась
та над нами нахилилась!
І чорнило, і чорнило
ти на платтячко розлила…
Так нежданою бідою
ми розлучені з тобою.
Перший клас! А вже страждання
від нещасного кохання…
1991
4. В России
Я впервые в российской глубинке,
занесён из древлянской страны.
Вся деревня сошлась по старинке,
смотрит, судит со стороны.
...Про нелёгкое мамино детство
за столом вспоминает родня.
Так мне дарится память в наследство
вместо плуга, избы и коня.
Мне ещё ожидать с неба манны.
Только чувства уже смятены.
Там – деревня была Тараканы.
Вон – пустые стоят Крысаны.
...Мама к старой берёзе припала:
«Здесь когда-то стояла изба,
где мы жили. Потом разбросала
нас по белому свету судьба».
...За оградой в полуденном солнце
млеют травы, колышется зной.
Я распахиваю оконце
и бегу по земле родной.
Где-то там, за лугами, Вятка,
утомлённо гудит пароход.
Мне легла на колени тетрадка,
и десятый исполнился год.
Я наивен. Но, к этому краю
сопричастием осенён.
И как будто уже ощущаю
связь таинственную времён.
1994
* * *
Улетел мой птенчик желторотый
в дальние и тёплые края.
Там во сне он спрашивает: «Кто ты?»
Здесь я отвечаю: «Это я».
Но ему неведомо участье
под его наивною звездой.
У него своё на свете счастье…
Счастье-то своё. Но птенчик – мой.
1994
* * *
У меня нет денег.
Замыслы не те.
А душе вина надо бы.
Что ж – в голодном теле,
да не в суете,
и не во плену жадобы.
В суете удачу
стоит ли искать?
Лучше в уголке сяду я.
Ни о чём не плачу –
нечего терять.
Тихо небеса радую.
А душа – в Природу!
Значит, хочет жить!
Что ж её держать взаперти?
Чувствую свободу –
сбросить и забыть
тяжесть, что принёс к паперти!
Светится лампадой
на небе закат.
В мире – благодать вешняя.
Ничего не надо.
Я ли не богат?
Вся моя душа – здешняя.
Звание поэта
я другим отдам,
не кичась своим рубищем.
Выпью же за это.
Благо, есть вода.
А вино – Бог даст –
в будущем.
1994
Лунная роса
О.Ч.
Одинокая птица в ночи,
ты сидела, окутана мглой.
В кухне с крана сочилась вода,
а над крышею месяц висел.
И на кровлю стекали с рожка
капли тихие лунной росы.
А тебя донимала тоска,
и держала за стрелки часы.
Сколько их – тех невидимых струй,
составляющих жизнь и мечты!
Где она – матерьяльность вещей –
переходит в незримость для глаз?
И невольно заплакала ты
над обрывком судьбы дорогой…
Ах, как сладко её искушать!
О, как больно бывает потом!
…Но пока мчится поезд в июль,
и под млечной дорогою степь, –
позабудь же про годы и дни,
слушай звёздное пенье цикад!
Отрешись, ничего не боясь,
унесись в эту сладкую негу,
что пропахла полынью степной
и, как старые вина, горчит…
В неких вымыслах наших – дурман.
Но дурман сей целебен для ран.
Он на капельках лунной росы
был настоян за эти часы…
1994
Киев – Керчь
Преддверие
Зимы завоевательный поход
окончен будет ночью.
Природа замерла. Тепло
последнюю усталую когорту
собрало из истерзанных остатков
всё побеждавшей некогда Весны,
которая из яркого зенита,
из августовской неги расслабленья
в беспомощное бегство обратилась,
и пала духом, – что сойдёт на нет.
Но эта обречённая когорта
так странно с положеньем не смирялась,
когда, казалось, всё уже свершилось
и всюду воцарились холода;
они собрались в силы ледяные
и окружили низменную местность,
где к этой ночи теплилось покуда
дыханье уходящих навсегда.
И без оптимистических наивов,
так свойственных эпохе созреванья,
Природа погружалась в размышленье
в сияньи звёзд полуночных огней…
Прислушайтесь, всмотритесь в этот образ,
хотя в нём так же всё несовершенно,
как всё несовершенно в этой жизни
пред замыслом, витающим над ней...
Ах, это время холода и смуты,
и эта жизнь – в единственное время…
Так отлетели души убиенных.
Пора и их отлёт благословить.
Есть тайное всему предназначенье,
всё зачтено, и будет продолженье!
Иначе – нет надежды на спасенье
и душу ни во что не воплотить.
…Вот грустная история Природы
в преддверии истории рожденья…
А я – живу, бросаю в печь поленья,
в надежде эту зиму пережить.
1994
Осенний романс
Вечера осенние –
как моя душа.
Бродит вдохновение,
листьями шурша.
Чистота небесная,
тихо и свежо.
Ах, пора чудесная!
Как мне хорошо!
Нечего загадывать,
нечего решать.
Что за осень! Надо ведь
этак утешать!
Что за повесть пишется
в сердце между строк!
Вслушиваюсь. Слышится:
«Хорошо…»
Хорошо, – не странно ли –
среди стольких драм?
Все сюжеты канули –
во спасенье нам.
Рядом – ты, хорошая.
Но дрожишь. Свежо.
Дай, пиджак наброшу я…
Правда – хорошо?
1994
* * *
В.М.
Ни жиру, ни богатства я не нажил.
И разумом до тела не дорос.
Я помню, друг, ты мне сказал однажды:
«Ты худ, как на распятии Христос».
По-будничному с уст твоих сорвалось,
без зла и лести, зримое в словах.
«А мне – подумал я – не раз случалось
кривить душой и прятаться за страх».
Хотелось – в завтра, жить, а дальше – выжить…
Мы все такие – ввек иль до поры.
И каждый свою лепту внёс, чтоб выжить
тех, кто нарушил правила игры.
Я сам – давно ушёл из круга злого,
сам – вне игры, и счастлив сознавать
себя подобьем Божьим, и иного
своей душе не смог бы пожелать.
Не поддаюсь ни алчности, ни снобу,
канонов пустозвонных не блюду,
лишь собственную грешную худобу
я на алтарь души своей кладу.
…Прости мне, друг, невольное пижонство.
А за подобье – Бог меня простит.
В моих руках – картонный меч и щит,
а всё кругом – сплошное вероломство,
что нам с тобой погибелью грозит.
1994
Сплав по горной реке
Игорю Дашко
Что за время такое
то, в котором живу?
Всё бегу от него я,
а оно – наяву,
с гор потоками мчится,
не сломись, удержись!
Разве можно смириться
с тем, как бьёт тебя жизнь?
В ней – за веру, в крушенье –
без проклятий и слёз.
В свете глаз – отрешенье,
мир возвышенных грёз.
А оглянешься – снова
тонешь в бурной воде,
где соломинка-Слово
вдруг спасает в беде…
…А потом, после сплава,
смотришь в угли костра…
Эта страсть – не забава.
Эта жизнь – не игра.
1994
Колокол.* Памяти поэта Бориса Чичибабина
Пройдена жизнь меж камней да ухабин…
А за банальной строкой –
горечью: умер Борис Чичибабин.
Выпью за упокой.
Что нынче в Харькове предпохоронном? –
снег да вокзальный лязг,
сумерки, в хаосе заоконном
время житейских дрязг.
Город – дворняга, судьба – мегаполис,
жертвенность и маета,
с дымом Отечества от околиц,
с верою во Христа…
Где там Парнас? До Парнаса далече.
Важно ведь – что внутри.
Впрочем, я думаю, к траурной речи
могут поспеть спилкари.
Смерть к послесловиям милосердна –
жалует всех живых.
Я лишь хотел помолиться усердно,
а перешёл на стих.
Так уж случилось, в груди кольнуло
сердце – осколок дней.
Слов оболочка, как боль, сутула.
Главное – свет над ней.
Сердце и свет – им нельзя разминуться.
Иначе – для чего?
Тьма ж и по смерти не сможет коснуться
светлой души его.
Верю поэту, чья жизнь – дорога
среди камней и ям,
кто перед совестью, миром и Богом
весь был открыт и прям.
Белые крылышки – к вышнему небу;
вот уже невесом,
всадник, подобно Борису и Глебу,
мчится в свой вечный дом!
Что не убит – утешает, собраты.
Да и не об этом я.
Души – они чистотою крылаты,
смерть – она всем своя.
Родина стынет в декабрьскую стужу.
Веки поэт смежил.
Верность земную в душе не нарушу –
тем, кто её хранил.
Всех понимаю на этом свете.
Кто теперь не эмигрант?
Но будто клином сошлись в поэте
Родина и талант!
…Дымно и совестно. Век истекает,
горести, слёзы, страх…
Умер Поэт. Но звучит, не смолкая,
Слово любови и вера святая –
колокол в небесах…
* «Колокол» – также название книги стихов Б. Чичибабина
Декабрь 1994
Читая Чичибабина
Я прост. Но где ж пристать
в миру, на Дух скудеющем?
Сознанью – не кумир,
скорей всего – изгой…
Но я люблю читать
Бориса Алексеича.
Вот осиянный мир
и промысел благой!
Есть Грин, есть Бах, есть Блок,
свет добрый в душу сеючи;
на языке реки
я с Гессе говорил.
Но этот жаркий слог
Бориса Алексеича
я б выделил, мой Бог,
и в тысяче светил.
Смотрю за грань времён,
о тленном не радеючи.
Знак вечности – печаль.
Но зло в ней не живёт.
Лик Пушкина склонён
к Борису Алексеичу,
и Гоголь, глядя в даль,
из сердца слёзы льёт.
И так печаль тиха,
что зримы, сердце греючи,
травинушка, родник
и нежность тополей.
В них слышен звук стиха
Бориса Алексеича…
И мой – в душе возник
и просится: Излей!
Пусть негде мне пристать
в миру, на Дух скудеющем, –
нисходит благодать
на душу с высоты.
И хочется читать
Бориса Алексеича.
И хочется писать –
как дышишь просто ты.
Июнь 1996
Весна
И всё-таки весна неотвратима.
Я будто пробуждаюсь ото сна.
А мне уже казалось: мимо, мимо
души усталой пролетит она,
и ничего такого не случится,
продлятся будни, с ними их дела…
Но девочка Весна, как ученица,
в мой грустный мир застенчиво вошла.
Как это всё необъяснимо ново –
явления видений наготы
и невозможность шествовать сурово
по теме первозданной чистоты!
Привычен страх, и я боюсь сближенья.
А всё равно – вдыхаю и тянусь.
Потом бегу, бегу от наважденья,
и грешный о прощении молюсь.
…Вхожу в трамвай, гляжу на перекрёстки.
Везде всё вроде то же. Да не то!
Студентки – с чем сравнить? – ну как берёзки
бегут по переходу, сняв пальто!
И стало в этой давке вдруг не тесно.
Ко мне прижалась женщина слегка;
плывём, качаясь… Ах, как интересно
сквозь муть стекла смотреть на облака!
Потом она выходит. На мгновенье –
лишь беглый взгляд, похожий на смущенье.
Что ж, в этот день такой я не один
среди обычных женщин и мужчин.
Наука жить – по-новому занятна.
Казалось бы, мы косны и грубы.
Но – веточки пасхальные вербы
у бабушек в руках, но солнца пятна
под сенью лип раскрывшихся желёз,
но дождь слепой из тополиных слёз,
но юность, возвращённая обратно
на краткий срок цветенья абрикос…
И вот я возвращаюсь в грустный дом.
Нет, я врываюсь в сон его, как гром!
Бужу его ленивых старых духов,
полжизни продремавших за столом.
Вношу весну в объятиях души
в полночный храм. Взволнована, прекрасна!
И Купидон кивает: согреши,
представь, вообрази... она согласна!
И чувств, и ощущений новизна,
и этот каждый вдох неповторимый!
И шепчет: «Я люблю тебя! Любимый!» –
счастливая, наивная жена.
1995
Состояние
Н.Чернявскому, С.Кацу
Так мелодия одна без куплета,
так любовь одним-одна без ответа,
так травиночка под зноем и ветром,
жизнь одна, и до чего ж коротка!..
Так и сам я, так и сам я – всё это;
хоть не Бог, зато – с душою поэта,
счастлив тем уже, что есть я у Света,
и такая же на сердце тоска.
Я не в поисках причин и последствий,
жизнь полна ли, лишена ль соответствий.
Знать, душа моя не вышла из детства –
на любой её порыв – остриё.
Как же всё приобретает значенье –
даже детское её огорченье,
даже слабое её увлеченье
и предчувствие бессмертья её!
Ну а рядом, в мире злобы и чванства
всё мы просим у судьбы постоянства,
безрассудство ж потрясает пространство
и паяцы одержимы игрой.
Там бесчестием кичатся невежды,
а на совесть что на ветер – надежды;
человека там отыщешь ли между..,
не нарвавшись на «А ты кто такой?»
…Просто жить. Но мало кто так умеет
и чужою суетой не болеет.
А молва с хулою знай своё мелют
(хоть не золото, да, всё ж, барыши).
Лишь бы были мы ещё терпеливей,
хоть немножечко ещё, но счастливей.
Счастье, право же, не спор со стихией,
а предчувствие бессмертья души.
1995
Паучок
День был тихим, ясно-голубым,
солнышко осеннее блестело.
К нам в окошко лёгкая, как дым,
паутинка с улицы влетела.
Паучок держался за неё,
будто правил точно и с расчётом,
и в конце удачного полёта
сплёл над колыбелькою жильё.
Колыбель была ещё пуста,
в ней до той поры никто и не был.
А терперь – вот… Всё же, неспроста
паутинки странствуют по небу.
Спи, дитя. Пусть ангелы к тебе
добрыми в ночи приходят снами.
И счастливой молится судьбе
паучок невидимый над нами.
1996
* * *
Игорю Семененко
Улетай...
Это грустно...
Ну что ж, улетай за далёкие горы,
за другие моря. Та земля, она тоже твоя.
Вспоминай –
как он там и какой без тебя он, твой город,
и что живы ещё в нём (даст Бог – будем живы) друзья.
Улетай...
Было много прощаний у этого берега Леты.
Осень шлёт предсказанья: что было – прошло и не жди.
Может, мы слишком рано поверили грустным приметам?
Ведь отраднее верить, что лучшее, всё ж, впереди.
Слёз не помнит река, уходящее не окликает.
Не Отечества дым над землёю, а просто туман.
И минуют года, как вода, и как ты, протекая
мимо наших судеб, мимо душ незалеченных ран.
Улетай...
Это просто хандра. Видишь? – мальчики верят в гитары
и влечёт их любовь в этот жизни чудной балаган.
Ты ж счастливо лети. Над тобою пылают стожары
и ведут, будто вешки, в неведомый твой Зурбаган.
24.09.1996
* * *
Серёже
Когда тебя грешные судят,
а ты, брат, стираешь бельё,
и белые флаги – как люди,
и сердце открыто твоё…
Когда тебя грешные судят
(ещё раз подумаем – кто), –
ну пусть им занятие будет.
А сам ты при деле зато.
И в мудрое лоно покоя
не грешный войди, не святой;
а будь осенён чистотою,
любовью, творящей мечтой…
Ах, время – летит очумело.
День – совесть и стыд продаёт.
(Он сделает подлое дело
и тень на плетень наведёт.)
Но ты, брат, собой оставайся.
Я верю в картонный твой щит.
Пред злобой людской не сдавайся,
твой Ангел тебя да хранит!
А им – подрядившимся в судьи –
вот сердце - опомнитесь же!..
Не будьте жестокими, люди,
к ещё не отпетой душе.
Январь 1997
Киев – Кривой Рог
Грибной пирог
«Человек... есть не что иное
как узкий опасный мостик между природой и духом».
Герман Гессе, «Степной волк»
Какая благодать! Рассвет забрезжил робко.
Туман. Недвижен лес. Всё – тайна. Тишина.
Иду искать грибы. Ещё легка коробка,
бодр и пружинист шаг, душа чиста до дна.
Вот первый мой поклон у краешка тропинки.
Почудилось. Ну что ж – глазам во тьме не верь.
А уши навостри на шорох от ложбинки:
Эй, кто там, отзовись, ты птица или зверь?
Мне отдых быть в лесу. А зверю, ох, непросто:
попробуй, прокормись да шкуру сбереги…
Вот так же – мне в миру, налипшем, как короста…
(Прости меня, Господь! А миру – помоги)
…И что есть жизнь моя пред Вечностью и Богом?
Живи и сам решай, будь мерой и ценой.
В раздумье о душе, на поприще убогом,
в страданиях земных век протекает мой…
Ну надо ж? – понесло. Собрался за грибами.
А над столом порой и строчки не создашь.
Вон солнышко взошло! Вот пень твой под дубами!
Пожалуйста – садись, берись за карандаш!
В прекрасное глядеть ещё не есть работа.
Так бабочка: вспорхнёт – и снова в закуток.
Когда достоин од всяк листик и цветок,
то, как сказал поэт, хватило б только пота!
Как всё переплелось! И не нарочно. Право,
я с тем забрёл, как в лес, в многоголосье строк.
Двенадцать дней прошло как умер Окуджава.
Похоже – сирота... Не надо... Видит Бог –
я сам несу свой крест, не раб и не избранник,
я сам собой гоним и сам в себе изгнанник.
И кто мне скажет, что в потоке дней
я не достоин участи моей?
Пустынником всё мимо толп иду,
рассвет мечтая встретить в том саду,
что чудится в дали обетованной,
придуманной, но, важно, – в необманной.
Поэт не может к дали не идти.
Не вопрошай: Зачем? Не говори: Всё тщетно.
Прочь чуждое – Уймись, повороти!
Свернувшие отстали незаметно.
И он один. И нет назад пути…
Иных тщетою здешней не пораню.
Сияет мир под солнечною ранью,
как будто вознесён на небеса!
И можно вечно следовать призванью!
А коль положен нимб по состоянью,
то мой – вот: паутинка и роса.
…………………………………………………
Постскриптум.
Мне везёт! Не зря брожу кругами!
Растут, растут грибы! Трофеям счёту нет!
Слегка отяжелев, почуяв твердь ногами,
я рад и даже горд, что заслужил обед.
Красавец боровик из-под куста лукаво
глядит. На нём мураш – служака часовой.
Спасибо, брат, тебе! Как там твоя держава?
Инстинкт, поди, силён? Я сам был рядовой…
Прошли те времена, когда людское море
на праздных площадях пьянило, как вино.
Я нынче ветру друг, гуляю на просторе,
и в собственном дому как эмигрант давно.
Чем ближе синий свет мечты и непокоры,
чем зримей волчья степь сквозь будней коридоры,
тем чаще снится дом над тихою рекой.
О, бездна женских слёз! О, горькие укоры!
А ведь итог один – погибель и покой.
Вот – гриб… И он упрям. Да червь упрямца точит.
Как в теле ни держись – всё ж обратится в прах.
Пока ещё ты цел, тебя хоть кто-то хочет,
а старый и гнилой не нужен и за страх.
Но, если дан огонь, а с ним – душа живая,
то, стало быть, есть шанс над тленьем воспарить!
Природа ж жестока, сколь суть её иная –
пройти несчётный круг и вновь всё повторить…
Маслята всей семьёй спешат в мою коробку.
Нет, это от чудес – явление грибов!
Как страшен мне возврат в людскую нервотрёпку,
где оскоплённый ум расчётлив и суров,
где мне – за птичий корм – нырянье в быстротечность,
в тот мутный омут, в страх, во тьму небытия…
А я бы всё глядел в мерцающую вечность
поэзии, любви!.. Так кто же, кто же я? –
Мечтатель? Блудный сын? Агнц Божий? Иль безбожник?
Но душу не разнять на струи, что слились.
Мыслителем не став, всей сущностью – художник,
равно творю я мир и чувственную высь.
Как несопоставим ни с чем моих сомнений
мучительный разброс и мой недолгий век!
С природою слиясь, я слышу: Ты мой гений!
А к звёздам устремясь – Ты жалкий человек.
Как быть? Кто знает? Но, сверх истины и меры,
путь праведным сочту – страданий и любви.
И под ноги, идя, смотрите, гулливеры!
Прошу меня простить – мы ходим по крови.
………………………………………………….
Так быстро день прошёл, сгорел в пылу, как спичка.
Меж терний уж скользнул, и взвилась мошкара.
Последний мой поклон – Привет, привет, лисичка!
Замешкалась, сестра; а мне уже пора.
…………………………………………………….
А вот и эпилог.
Что завтра – я не знаю…
А нынче, жизнь моя, мы подведём итог.
Над бездною скользит, румянясь и вздыхая,
творящая душа и плоть её земная –
на жертвеннике дня
в печи
грибной пирог.
1997
* * *
Мой маленький мальчик, сыночек родной,
с какого ни глянуть этапа –
на свете похожих судеб – ни одной;
и ты будешь лучше, чем папа.
Дай быть ему, Господи, духом сильней,
в любови – не шаткого трапа,
и помнить, что нет человека родней
по крови, по сердцу, чем папа.
9.11.1997